Там подборка рассказов, часть из которых я вижу в первый раз. Несколько штук повешу сюда, остальное - по ссылке: http://lib.ru/INOFANT/BRADBURY/ Мгновение в лучах солнца Они приехали в Отель де лас Флорес в жаркий день в конце октября. Муж, бледный, высокий, черноволосый, поднялся в их маленький номер, повалился на кровать и закрыл глаза. В это время его жена, молодая женщина лет двадцати четырех, сновала между номером и машиной. Сначала она принесла два чемодана, затем пишущую машинку, огромный сверток с мексиканскими масками, купленными в городе Патскуаре, еще чемоданы, уже поменьше, и небольшие свертки. Она заперла машину, проверила окна и бегом вернулась в комнату, что-то напевая про себя.
- О господи, - сказал муж, не открывая глаз, - ну и кровать, чтоб ее черт побрал. На-ка, пощупай. Я же тебе говорил: проси с мягкими матрацами. - И устало хлопнул по кровати. - Она же как камень.
- Но я не говорю по-испански. - На лице жены появилось удивленное выражение. - Поговорил бы с хозяином сам.
- Ну, вот что, - он чуть приоткрыл свои серые глаза и повернул голову. - Мы как договаривались? Денежные дела, гостиницы, бензин, масло и все такое прочее ты берешь на себя, а нам уже во второй раз попадаются жесткие кровати.
- Извини. - Она начала нервничать.
- Могу я хотя бы нормально спать по ночам?
- Я же сказала, извини.
- Ты что, даже не удосужилась пощупать кровати?
- Они мне показались вполне нормальными.
- Нет, ты все-таки пощупай.
- Нормальная кровать.
- То-то и оно, что нет.
- Ну, может, моя мягче. Хочешь, спи на этой, - предложила она и попыталась выжать из себя улыбку.
- А-а, эта такая же, - вздохнул он, закрывая глаза.
Оба молчали. Наконец она встала, схватила пишущую машинку, чемодан и направилась к двери.
- Куда это ты собралась? - спросил он.
- В машину. Поедем в другую гостиницу.
- Поставь их обратно. Я устал.
- Нет, мы поедем в другую гостиницу.
- О господи! Сядь, мы переночуем здесь, а завтра поедем дальше.
Она посмотрела на вещи, и глаза ее вспыхнули. Поставив пишущую машинку на пол, она закричала:
- К черту! Бери мой матрац. Я буду спать на пружинах.
Он промолчал.
- Бери мой матрац, и хватит об этом, - повторила она.
- А что, на двух удобнее, - серьезно сказал он, открывая глаза.
- Господи, да бери оба, я могу хоть на гвоздях спать, только перестань ныть.
- Ладно, обойдусь. - Он отвернулся. - Это было бы непорядочно с моей стороны.
- С твоей стороны было бы очень порядочно вообще не поднимать шум из-за кровати. Господи, да не такая уж она и жесткая. Почему ты не заснешь, если устал, сколько же можно, Джозеф?
- Тише, тише, - сказал Джозеф, - лучше сходила бы узнать, во что обойдется нам поездка на такси к вулкану Парикутин. И посмотри на небо: если оно голубое, значит, извержения сегодня не будет. Да смотри, чтоб тебя не надули.
- Не бойся, я все сделаю. - Она вышла, закрыв за собой дверь.
Небо над городом было голубым, только на севере (а может, на западе или востоке, она не была уверена) огромное черное облако поднималось от пылающей печи вулкана Парикутин.
Она разыскала таксиста, высокого толстяка с торчащими зубами, и началась торговля.
С шестидесяти песо цена быстро упала до тридцати семи...
Значит, так! Он должен приехать завтра в три часа дня и повезти их к грязно-серым снегам, к местам, где выпал вулканический пепел и царствовала пыльная зима. Правильно ли он ее понял?
- Si! Senora, esta es muy claro, si! [
да, синьора, все ясно (исп.)]
- Bueno [
хорошо (исп.)]. - Она дала ему номер их прощалась...
Сама того не замечая, женщина погружалась в город, омывавший ее со всех сторон, словно медленная и молчаливая река...
И вдруг тень тревоги пробежала по ее лицу. Она посмотрела на часы: прошло полчаса, как она вышла из гостиницы. Надо было возвращаться.
В самом конце гостиничного дворика продавали прохладительные напитки. Купив четыре бутылки кока-колы, она открыла дверь их номера:
- Мы выезжаем завтра в три часа.
- Сколько дала?
- Всего лишь тридцать семь песо.
- Хватило бы и двадцати. Нечего давать этим мексиканцам возможность обманывать себя.
- Я же богаче их, и если кто заслуживает быть обманутым, так это мы.
- Да при чем тут это? Просто они любят торговаться.
- Когда я с ними торгуюсь, то чувствую себя скотиной: к чему поднимать шум из-за доллара!
- Доллар есть доллар.
- Я заплачу доллар из своих денег, - сказала она. - Хочешь воды?
- Что у тебя там? - Он поднялся и сел на кровати.
- Кока-кола.
- Ты же знаешь, я не люблю кока-колу. Отнеси две бутылки назад и возьми апельсиновый сок. Как вулкан, действует?
- Да.
- Ты спрашивала?
- Нет, посмотрела на небо. Оно все в дыму, того и гляди, лопнет от дыма.
- А как мы можем быть уверены, что извержение будет завтра?
- Никак. Если не будет, отложим поездку.
- Я тоже так думаю. - Он опять лег.
Она принесла две бутылки апельсинового напитка.
- Что-то он не холодный, - глотнув, сказал муж...
Ужин подали им во дворе: мясо прямо со сковородки, зеленый горошек, блюдо риса по-испански, немного вина и персики со специями на десерт.
После ужина они вышли на площадь. Zocalo [
площадь (исп.)] была в зелени. На эстраде, украшенной бронзовыми завитками, свистел, трубил, гудел и ревел оркестр. Сколько людей, сколько красок! Площадь словно расцвела Оркестр разразился Yanki Doodle ["Янки Дудл" (муз.)], это привело ее в восторг и широко улыбаясь, она повернулась к мужу, напевая что-то вполголоса.
- Ты ведешь себя, как туристка, - сказал муж.
- Просто мне хорошо.
- Не будь по крайней мере дурой.
Мимо них медленно проходил торговец серебряными безделушками. Джозеф осмотрел его товар и выбрал браслет - очень изящную, изысканную вещицу.
- Сколько? - спросил он продавца.
- Veinte pesos, senor [
двадцать песо, сеньор (исп.)].
- Ничего себе, - с улыбкой сказал муж по-испански. - Я дам тебе за него пять песо.
- Пять песо?! Я умру с голоду.
- Не торгуйся с ним, - сказала жена.
- Не вмешивайся, - все так же улыбаясь, ответил муж. - Пять песо, сеньор, - повторил он продавцу.
- Нет, нет, десять!
- Ну, хорошо, я даю вам шесть, и ни песо больше.
- Берите за шесть, сеньор, согласен.
Мужчина засмеялся.
- Дай ему шесть песо, дорогая.
Негнущимися руками она вынула бумажник и протянула торговцу несколько банкнот.
- Надеюсь, ты доволен?
- Еще бы, за доллар и двадцать пять центов я купил браслет, стоящий в Америке тридцать долларов!
- Должна признаться, я дала этому человеку десять песо.
- Что ты сказала? - муж перестал улыбаться.
- Я дала ему десять песо, - повторила жена, - но ты не волнуйся, в счет, который я представлю тебе в конце недели, они не войдут, это пойдет из моих денег.
Он ничего не ответил, только опустил браслет в карман.
Теперь настал ее черед отодвинуться от него и замолчать.
- Я устал, пойду в номер, - сказал муж.
- Мы же проехали от Патскуаре всего сто миль.
- Что-то у меня опять першит в горле. Пойдем.
Они вернулись в гостиницу, вошли в номер и разделись.
- Прости меня, - сказал он, - я так устал. Ужасно дергаюсь, когда веду машину, потом мы плохо говорим по-испански. К вечеру я превращаюсь в комок нервов.
- Да, - сказала она.
Внезапно он пододвинулся к ней, крепко прижал к себе, положил голову ей на плечо и, закрыв глаза, горячо, страстно зашептал:
- Ты же знаешь, мы всегда должны быть вместе, что бы ни случилось. Я тебя очень люблю. Если тебе трудно со мной, прости меня. Все наладится, должно наладиться.
Она пристально смотрела через его плечо на пустую стену, как бы олицетворявшую этот момент ее жизни: огромное пустое пространство, где не за что ухватиться. Она не знала, что делать, как отвечать ему. То, что было у нее на душе, выражали глаза, все глубже уходившие в пустоту стены...
Он прижал ее к кровати.
- Знаешь ли ты, как одиноко мне становится, когда мы спорим и ссоримся?
Он ждал ответа, но она молчала. В его голосе послышалось ей такое, от чего почудилось, будто сидит она в поезде, а он стоит на платформе и говорит: "Не уезжай". Она в смятении кричит в ответ: "Это же ты сидишь в вагоне! Ты! А я никуда не уезжаю!.."
В три часа утра она проснулась и уже не могла заснуть. В комнату вливалась прохлада глубокой ночи. Она прислушалась к дыханию мужа и почувствовала, как весь мир уходит куда-то далеко...
Они прожили вместе пять лет, и за все это время ни на день не разлучались; она никуда не ходила одна, он был рядом с ней всегда, наблюдал, критиковал и ни разу не разрешил отлучиться больше чем на час, не потребовав от нее полного отчета. Иногда, чувствуя себя при этом воплощением зла, она украдкой, никому не сказав, уходила в кино на ночной сеанс и, глубоко вдыхая воздух свободы, наблюдала, как люди, куда реальнее ее, двигались по экрану.
"1825 дней с тобой, муж мой, - подумалось ей. - Я, как тот человек из "Бочонка Амонтильядо" [
рассказ Э.По], которого замуровали в подземелье, кричу, но никто меня не слышит".
За дверью послышались шаги и чей-то стук.
- Senora, - позвал кто-то тихонько по-испански, - уже три часа.
- Боже, тш-тш... - зашипела жена, вскочила, кинулась к двери и, чуть-чуть приоткрыв ее, сказала в темноту:
- Вы ошиблись.
- Senora, время - три часа.
- Нет, нет, - прошептала она с перекошенным от отчаяния лицом. - Я имела в виду завтра в три часа дня...
- В чем дело? - осведомился проснувшийся муж и зажег свет. - О боже, только три часа ночи. Что этому болвану нужно?
Жена повернулась к нему и, закрывая глаза, сказала:
- Он повезет нас к Парикутину.
- Господи, ты, похоже, по-испански вообще ни в зуб ногой!
- Уходите, - сказала она таксисту.
- Но я же специально вставал.
Муж выругался и поднялся.
- А-а, теперь я все равно не усну. Скажи этому идиоту, мы будем готовы через десять минут и поедем с ним, о господи!
Проводник нырнул в темноту и выскользнул на улицу, где холодная луна полировала бамперы его машины.
- Ну, ты и бестолковая, - бросил муж, натягивая две пары брюк, две рубашки и на все это шерстяную рубаху. - Дьявол, это уж точно добьет мое горло. Ну, если я опять свалюсь с с ларингитом...
- Ложись спать, черт с тобой.
- Нет уж, теперь я все равно не засну, - ответил он, натягивая еще два свитера и две пары носков. - Там в горах холодно, одевайся теплее, да пошевеливайся.
- Ложись спать, - сказала она. - Заболеешь, опять будешь ныть, на что мне это нужно.
- По крайней мере могла бы хоть время ему четко сказать.
- Заткнись.
- У тебя ветер в голове, поэтому ты вечно что-нибудь напортачишь.
- Оставь меня в покое, черт бы тебя побрал, оставь меня, я не нарочно это сделала!
Она подняла руки, сжав их в кулаки. Пылающее лицо ее было искажено и безобразно.
- Опусти руки! - закричал он.
- Я тебя убью, клянусь, убью, - кричала она. - Оставь меня в покое! Я из кожи вон лезла - кровати, язык, время, о господи! Думаешь, я не понимаю, что виновата?
Через минуту, успокоившись, она протянула ему кожаную куртку и сказала:
- Пойдем, он ждет нас.
- Иди ты к чертям, я никуда не поеду. - Он опять сел. - Ты должна мне 50 долларов.
- С какой стати?
- А ты вспомни, что обещала?
И она вспомнила. Это было в Калифорнии, в самый первый день их путешествия. Они поругались из-за какого-то пустяка, и впервые в жизни она подняла на него руку, но, испугавшись, опустила и уставилась на предательскую ладонь.
- Ты хотела ударить меня! - закричал он.
- Да.
- Ну, что ж, если ты еще раз сделаешь что-либо подобное, то заплатишь мне 50 долларов из своего кармана.
Такова была их жизнь, полная дани, выкупа и мелкого шантажа. Она платила за все свои ошибки, случайные и неслучайные: доллар за то, доллар за это. Если по ее вине был испорчен вечер, она платила из денег, отложенных на одежду. Если они ходили в театр и она начинала критиковать понравившуюся ему пьесу, он устраивал сцену, и ей приходилось платить за билеты... Так продолжалось год за годом, чем дальше, тем хуже...
- 50 долларов. Ты обещала, если дело снова дойдет до таких истерик с рукоприкладством.
- Но я же не ударила тебя. Ладно. Заткнись. Я заплачу тебе эти 50 долларов, я сколько угодно заплачу, только оставь меня в покое.
Она отвернулась и подумала, что он превратил деньги в орудие, постоянно нацеленное на нее. Когда она срывалась, то вынуждена была отдавать ему часть заработка, достававшегося ей нелегким трудом.
- А знаешь, у меня такое впечатление, что с тех пор, как мои рассказы взяли в журнал, ты затеваешь больше ссор, а я плачу тебе больше денег.
- Что ты хочешь этим сказать? - спросил он и, неожиданно успокоившись, добавил:
- Так ты заплатишь?
- Да.
Она быстро надевала брюки и куртку.
- Кстати, я давно собиралась поговорить с тобой о деньгах. Нет смысла держать их отдельно, все деньги я буду отдавать тебе.
- Я об этом не просил, - быстро сказал он.
- А я настаиваю.
"Я сейчас обезоруживаю тебя, - думала она. - Теперь уж ты не будешь выкачивать из меня деньги, цент за центом, капля за каплей. Придется тебе придумать другой способ, чтоб досаждать мне".
- Но... - начал он.
- Не будем больше говорить об этом. Они все твои.
- Я просто хотел, чтобы это послужило тебе уроком. Ведь ты такая несдержанная.
- Ну да, и живу я только ради денег.
- Все деньги мне не нужны.
- Ладно, хватит.
Перебранка утомила ее. Она открыла дверь и прислушалась. Соседи ничего не слышали, а если и слышали, то не обратили внимания. Фары ожидавшего их такси освещали небольшую площадь перед гостиницей...
Они выехали из Уруапана и долго тряслись по застывшим в ленивой дреме снежно-пепельным холмам под холодными ясными звездами, потом взобрались на гору, где стояли торжественно-серьезные мужчины и смуглые мальчишки; рядом под безмолвным небом переговаривалась группа американцев в бриджах. Подвели лошадей, и все отправились вверх по реке лавы. Жена заговорила с американцами, посыпались шутки; муж через некоторое время поскакал вперед...
В эту ночь Парикутин был рекой золота, далекой рекой расплавленной руды, текущей к мертвому морю лавы, к далекому вулканическому берегу. Если затаить дыхание и успокоить колотящееся сердце, можно услышать, как лава сталкивает вниз камни; они катятся, переворачиваются и едва слышно грохочут. Над кратером стояло красное сияние, а изнутри беззвучно поднимались светло-коричневые и серые облака, залитые розовым светом...
Они стояли вдвоем и смотрели, как лава слизывает темный конус вершины.
Он упрямо молчал.
- Чем ты теперь недоволен? - спросила она.
- Разве ты не могла побыть со мной? Я думал, что в Мексике мы всегда будем вместе. А ты сразу начинаешь трепаться с этими проклятыми техасцами.
- Мне было так одиноко. За два месяца мы не встретили ни одного американца. Днем здесь хорошо, а по ночам тоскливо. Просто захотелось с кем-нибудь поговорить.
- Тебе захотелось сказать им, что ты писательница.
- Неправда.
- Всегда всем рассказываешь, какая ты хорошая писательница и как путешествуешь по Мексике на деньги, заработанные в большом журнале, напечатавшем твой рассказ.
- Один из них спросил, чем я занимаюсь, вот я и сказала. Но ты прав, черт возьми, я действительно горжусь своей работой. Мне пришлось ждать целых десять лет, пока напечатали мой первый рассказ.
Он долго рассматривал жену, освещенную пламенем вулкана.
- А знаешь, перед тем, как ехать сюда, я вспомнил об этой проклятой пишущей машинке и чуть было не швырнул ее в реку.
- Что?!
- Нет, не выбросил, пока просто запер в машине. Я уже сыт по горло и ею, и тем, как ты портишь нашу поездку. Ведь ты здесь не со мной, а сама по себе, для тебя существует только одно - ты, ты и эта чертова машинка, ты и твои нервы, ты и твои впечатления, ты и твое одиночество. Я знал, что так будет и сегодня. Куда бы мы ни пошли, ты вечно спешишь в номер и барабанишь на своей машинке. И днем, и ночью - дно и то же, да сколько же можно?! Зачем мы сюда приехали?!
- Я неделю не садилась за машинку, зная, как она тебя раздражает.
- Вот и не садись за нее еще неделю, месяц, пока не вернемся домой. Твое проклятое вдохновение может и подождать.
"Не надо было обещать ему все деньги, - подумала она. - Не надо было отнимать у него это оружие. Теперь он добрался до самого главного, до настоящего - до моей работы, до машинки! О господи!"
И вдруг поток гнева охватил ее, захотелось его ударить, быть может, сбросить со скалы, но она просто толкнула его в спину, вложив в этот жест весь свой гнев, всю накопившуюся обиду, и это означало, что разговор кончен...
Через час муж с женой тронулись сквозь рассеивающуюся мглу в обратный путь. Спускаясь к мертвому городу, к церкви, погребенной под слоем лавы, жена думала: "Почему не упадет его лошадь? Почему не сбросит его на камни?"
Но ничего не происходило. Они скакали дальше. Из-за горизонта поднималось багровое солнце...
Они проспали в своем номере до часу дня. Одевшись, жена полчаса сидела на кровати, ожидая пробуждения мужа; наконец он зашевелился, перевернулся - небритый, бледный от усталости.
- У меня болит горло, - были его первые слова. Она промолчала, потом поднялась и пошла к двери.
- Пойду куплю газету.
Выйдя из гостиницы, она долго шла по только что вымытым улицам, вдыхала невероятно чистый воздух, и ей было бы совсем хорошо, если бы не постоянная дрожь где-то в груди.
Она подошла к таксисту, чувствуя, как замерло и снова заколотилось сердце, и спросила:
- Мне надо в Морелию. Сколько это будет стоить?
- Девяносто песо.
- А я смогу сесть там на поезд?
- На поезд можете сесть и здесь.
- Верно, но здесь я не стану его ждать, у меня есть на то причины.
- Хорошо, я отвезу вас в Морелию.
- Идемте, мне еще кое-что нужно сделать.
Такси осталось ждать напротив гостиницы. Она вошла во дворик, вдохнула пьянящий, кристально чистый воздух, затем, прижав руки к телу и закрыв глаза, тихонько отворила дверь.
Он лежал спиной к ней и спал. Быстро и бесшумно надев жакет и проверив деньги в кошельке, она подошла к кровати и посмотрела на спящего мужа - знакомые черные волосы на затылке, профиль, закрытые глаза. Он зашевелился и спросил сквозь сон:
- Что?
- Ничего, - ответила она, - ничего и еще раз ничего.
Такси с грохотом пронеслось по городу и на невероятной скорости вырвалось на шоссе. Позади остались и город, и гостиница, и спящий в гостинице человек, и...
Все. Мотор заглох.
"Нет, нет, - думала Мэри, - о боже, нет, только не это. Мотор сейчас заведется, должен завестись".
Таксист выскочил из машины, ожег господа бога взглядом, рванул капот, казалось, его скрюченные руки вот-вот схватят мотор, вырвут железные внутренности; лицо застыло в нежной улыбке невыразимой ненависти. Он повернулся к Мэри и заставил себя пожать плечами, подавив ярость: на все воля божья.
- Я провожу вас до автобусной остановки, senora, - сказал он, помог ей выйти из машины и показал дорогу.
Автобус стоял на площади. В него садились индейцы: одни входили молча, медленно, уверенно, величаво, другие тараторили как птицы, пихали в автобус детей, корзины с цыплятами и поросят.
Мэри вошла в салон, и со всех сторон на нее обрушились запахи: горячей смазки, бензина и масла, мокрых кур, мокрых детей, обливающихся потом мужчин и женщин, старых истертых чехлов и маслянистой кожи...
Она пробралась назад, чувствуя любопытные взгляды индейцев.
- Я уезжаю, наконец-то я уезжаю, ухожу, я больше никогда его не увижу, я свободна, свободна.
Она чуть не засмеялась.
Автобус тронулся, пассажиры тряслись и качались, что-то крича и улыбаясь, а позади остались город, Отель де лас Флорес, внутренний дворик и Джозеф...
Она повернулась, скрестила руки на груди и стала размышлять, чего же добилась своим отъездом. На мгновение ей показалось: как же это хорошо - сидеть, откинувшись на спинку кресла, и созерцать тишину. Ничего не знать, ничего не чувствовать, ни о чем не думать.
Автобус мчался вперед сквозь свежий сладкий полуденный воздух, между иссохшими львиными шкурами гор, под старинными акведуками, по которым, словно свежий ветер, бежала вода, мимо церквей. Вдруг, совершенно неожиданно для себя, Мэри подумала:
"Я никогда больше не увижу Джозефа; никогда, никогда, до самой смерти, и после смерти я не увижу его, ни часа, ни минуты, ни секунды, совсем, совсем не увижу..."
Она вся оцепенела, стала оглушительным пустым ничто.
"Не смей кричать! Не смей! Не смей! Как ужасно кружится голова; автобус, руки, юбки - они все синие, черные; кровь отлила от головы, сейчас она упадет в обморок, какая неожиданность... Джозеф, Джозеф, Джозеф. Я не могу жить без него, - подумала она, - все это время я лгала себе. Я не могу без него, о господи, я, я... Остановите автобус! Остановите!"
Крик. Автобус затормозил. Всех бросило вперед. Она выкарабкалась из кресла и пробралась к выходу. Водитель в ужасе уставился на женщину, которая, налетев на него, вывалилась в открытую дверь и так и осталась лежать. Кто-то наклонился к ней, кто-то выносил из автобуса ее вещи, а она, захлебываясь и рыдая, объясняла, что ей надо назад, в город. Водитель покачал головой, дверь автобуса сложилась гармошкой и закрылась, медные лица-маски индейцев понеслись дальше, прочь, удаляясь и вскоре исчезнув из ее сознания. Она еще несколько минут лежала на чемодане и плакала.
Поднявшись, она перетащила чемодан на шоссе: шесть машин с урчанием пронеслись мимо, и лишь седьмая остановилась - роскошный автомобиль из Мехико, в котором сидел представительный мексиканец.
- Вам в Уруапан? - вежливо спросил он, стараясь не смотреть на ее одежду.
- Да, - наконец произнесла она, - в Уруапан...
Пожилой мексиканец довез ее прямо до гостиницы, помог выйти из машины, снял шляпу и распрощался. Взяв чемодан, она побрела в отель и вновь очутилась в комнате, из которой ушла тысячу лет назад...
Муж лежал спиной к ней: тусклый сумеречный свет падал на его фигуру, и, казалось, он так ни разу и не пошевелился все то время, что ее не было. Он даже не знал, что она уходила, была на краю земли и снова вернулась к нему.
Жена стояла и смотрела на его шею, на темные вьющиеся волосы, похожие на пепел, упавший с неба...
Потом она очутилась в мощеном внутреннем дворике под жаркими солнечными лучами. Она видела, как запорхали возле нее две бабочки, заметались из стороны в сторону и наконец сели на куст, плотно прижавшись друг к другу.
Глаза ее следовали за этими двумя золотисто-желтыми существами, этими яркими пятнышками на зеленом листе, слившимися воедино. Крылья их бились все медленнее... Вдруг рот ее задергался, рука закачалась, словно маятник, пальцы взлетели вверх и обрушились на бабочек, сжимая их все крепче и крепче... Откуда-то из горла рвался крик, но ей удалось подавить его...
Рука разжалась сама по себе, и два маленьких комочка яркого порошка упали на блестящую плитку, которой был вымощен двор. Она взглянула вниз на то, что осталось от золотистых созданий, потом резко вскинула голову, стерла пыльцу с онемевших пальцев и, глядя на поднимавшийся в небо столб дыма, сказала через плечо - слышал ли ее мужчина, лежавший в номере, или не слышал - кто знает?
- ...Пожалуй, сегодня можно съездить к вулкану. Он, видно, заработал вовсю. Огонь будет, дай бог, вот увидишь...
Да, подумалось ей, огонь упадет вокруг нас, крепко сожмет, потом отпустит; мы станем пеплом, и ветер понесет нас, огненный пепел, на юг...
- Ты слышишь меня?
Она встала у кровати, замахнулась, но так и не ударила его по лицу...
(с) Рэй Брэдбери
(с) "Смена", 1988. Пер. - Е.Темирбаева.
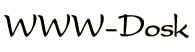
 Главная
Главная

 Справка
Справка

 Поиск
Поиск

 Вход
Вход





 Страниц: 1
Страниц: 1