|
В итоге Гвендолен решается. В последнее время рассказов она не пишет. Не в добрый, по всей видимости, час она почему-то перешла с мелкой прозы на крупную и - когда не пьет чай и не беседует с гостями - сочиняет длиннющую, непонятного жанра историю, крайне неоднозначную идеологически (вот уже четвертый месяц сочиняет, это для нее тот ещё срок).
Поэтому она надеется, что ей позволительно будет предложить вниманию гостей очередные неновые рассказы.
Вот она и вытряхивает из запыленного цикла "Золото на голубом" (в который входит и "Сказка, к слову сказать) ещё три древние зарисовки.
Стекло
Однажды я видела, как грузчики несли куда-то толстое оконное стекло. Оно было таким прозрачным, что если не подходить совсем близко, казалось, что два здоровенных мужика играют в какую-то странную игру – делают вид, что тащат нечто тяжёлое, скрючивают руки, отдуваются, останавливаются покурить, матерятся, но в руках у них ничего нет. А на самом деле в руках у них было стекло.
Я – профессиональный носильщик стекла.
Усталость
Я ужасно устала от своего детства. Когда ты маленький, тебе надо делать кучу разных, ужасно неприятных вещей – например, рано вставать. Ходить в школу. Слушаться маму и вообще слушаться взрослых. В жизни моей мамы я была главным героем, а главный герой не может не быть положительным – мама любит традиционные сюжеты. Поэтому я лучше всех училась, лучше всех рисовала, лучше всех писала стихи и училась в школе для одарённых детей. Зато во дворе я не гуляла никогда – потому что девочки, которые ложатся спать, когда захотят, едят ядовитые малиновые леденцы грязными руками и говорят плохие слова, могли испортить совершенное мамино произведение. И к нам в гости никто не приходил. И кошки у нас не было. И велосипеда. Ну и что – зато я писала стихи.
Например, когда мне было десять лет, у нас в школе ставили сценку по песенке о смуглянке-молдаванке. Там надо было танцевать, а танцевала я очень плохо, и в сценку меня брать не хотели. Мама сходила к завучу, немножко там поплакала, и меня всё-таки взяли в сценку – на роль Раскудрявого Клёна Зелёного. Моя задача заключалась в том, чтобы стоять на сцене в праздничном платье, к которому канцелярскими булавками были приколоты кленовые листья, оставшиеся от первого сентября, и ритмично взмахивать зелёным платком, когда учительница музыки восклицала «И-иэхх!» Но и с этим я справлялась плохо, на генеральной репетиции пропустила два иэха, а потом две булавки у меня на платье отцепились, и листья посыпались на некрашеный пол сцены. Все говорили, что клён опадает, и очень смеялись. К тому же, стоя на сцене, я разревелась – мне было страшно обидно, потому что мальчишки-хулиганы из А-класса, изображавшие партизанский молдаванский отряд, обзывали меня деревом, дубом и почему-то баобабом.
После небольшого семейного скандала и порванной книжки про Лолиту, которая, по мнению мамы, мешала моим успехам в хореографии, танцы из домашней программы «Идеальный ребёнок» были исключены.
С пяти лет я слышала, что я не такая как все, и что у меня впереди что-то очень важное, значимое и нужное. Может быть, я уеду за границу. Или стану переводчиком и буду зарабатывать много-много денег. И никогда-никогда не выйду замуж, потому что моя мама будет уже очень старенькой и я её не оставлю. Только предатели, говорила мама, оставляют своих пожилых и беспомощных родителей, только чёрствые души. Лучше пусть я выучусь в университете, заработаю много денег и повезу её смотреть Европу, всякие там кирхи и готические соборы, мама будет смотреть на свою красивую, взрослую и абсолютно самостоятельную дочку и наконец-то станет счастлива. Мама говорила об этом, как правило, за ужином, и где-то между кашей и чаем начинала плакать. Я видела масляные крошки, прилипшие к её подбородку и на мои глаза тоже наворачивались слёзы. Насчёт замужества я была с ней горячо соглашалась – потому что все мальчишки, которых я знала, меня пугали. Со слезами было сложнее – когда я нервничаю, я совершенно перестаю хотеть есть, а доедать полагалось всё, что тебе положили в тарелку. Иначе мама подсаживалась поближе, скорбно качала головой и рассказывала, про то, как в далёкой Африке голодают местные африканские дети, как они ловят и едят африканских летучих мышей, как от цинги у них выпадают зубы, и из десен течёт кровь и как они распухают оттого, что у них безбелковый отёк.
Я очень жалела африканских детей и всегда доедала до конца. Абсолютно всегда – и кашу с вареньем, и картошку, и булку. Иногда мама, гуляя со мной по улице, засматривалась на стройных девочек в миниюбочках, крутящих обручи-хулахупы, и говорила, что в моём возрасте стыдно быть таким бочонком, что я мало двигаюсь и всё время сижу в кресле с книжкой.
Одноклассники не хотели понимать, какая я особенная и замечательная, и вообще относились ко мне нечутко – лупили где только можно, выкидывали книжки и тетрадки из портфеля, а однажды насовали в сумку со сменной обувью такого, что и сказать стыдно. Сменная обувь была импортная, кремовые туфельки из мягкой кожи, стоили они четверть маминой зарплаты, и стоять за ними в очереди нужно было два часа плюс коробка конфет заведующей обувным отделом, так что мама опять ходила в школу и плакала у завуча – завуч потом рассказывала подруге по телефону, что заведёт для моей мамы специальный пузырёк валерианки. В общем, самого активного совальщика вместе с его родителями вызывали к директору и долго объясняли, что он глубоко неправ с применением таких слов, как «на второй год», «колония» и «патологический тип» (школа наша была престижная), а другие совальщики отловили на следующий день меня в раздевалке, опять отлупили, только сильнее и так, чтобы синяков не осталось, и пообещали в следующий раз напихать говна уже не в сумку. Куда именно – они так и не сказали, но от этого было ещё страшнее. Я убежала от них в женский туалет, вытерла сопли, умылась и побыстрее побежала на остановку, потому что опаздывала в музыкальную школу.
Теперь, когда я случайно прохожу мимо мальчишеских компаний, я ускоряю шаг. Я их немножко боюсь. Вдруг они не видят, что у меня в руках большая сумка, из которой торчит длинный батон, что я иду на высоких каблуках, что у меня взрослая причёска? Вдруг они подумают, что я по-прежнему маленькая девочка, и не останутся сидеть на лавочке с ногами, а тихо встанут и подойдут поближе? Совсем близко? Я сжимаю ключи в кармане и опрометью бросаюсь внутрь, в спасительную прохладу подъезда, пахнущую мочой и сигаретным дымом. Фиг вам, я уже не с вами, и моя взрослость окружает меня, как меловой круг – Хому Брута.
Сейчас меня никто не может заставить быть Раскудрявым Зелёным Клёном. Конечно, я никуда не уехала, а живу на самой окраине Москвы, где за домами стоит большой гастроном, в котором продают водку и шоколад, а за гастрономом начинается тихий и печальный лес, а Москва, наоборот, заканчивается. Я и могу делать всё, что мне захочется – например, курить, если мне хочется. Ложиться хоть в три утра. Покупать себе длинные юбки-макси и читать книжки про кого угодно. Сидеть на зубодробительных, всесокрушающих диетах и пить чай с вареньем по ночам. Долго говорить по телефону. Сидеть с книжкой хоть круглые сутки.
Собственно говоря, я так и делаю. Потому что ничего другого мне не хочется.
Иногда я звоню по телефону своим друзьям, которые тоже очень взрослые. Мы часами болтаем, обняв телефонные аппараты, или прижимая радиотрубки к уху плечом (это когда, тот, кто говорит, занят чем-то другим – например, чистит картошку, или чинит рессору от детской коляски, или набивает научную статью), и обсуждаем детей, мужей, жён, Люсю Понимаеву, которая развелась, письма Достоевского и политическую ситуацию в современной Сербии, и снова детей, и Теорию Большого взрыва. Говорим о том, как хочется завести третью кошку и какой шоколад самый вкусный. Но больше всего мы говорим о том, как придёт лето, мы встретимся и поедем кататься на велосипедах. Или на трамвае. Или вообще все уйдём в поход.
Про походы и велосипеды я слушаю с самым большим удовольствием. Там, в походе, можно сидеть у костра, смотреть на серые кусты и чёрную речную воду, и слушать, как кто-нибудь анализирует методологические просчёты в твоей курсовой, и говорит, что если так подходить к анализу текста, то никогда не станешь сложившимся учёным. Ссылаться на Арьеса или Лакоффа. И спрашивает, не холодно ли тебе сидеть, и намазалась ли ты кремом от комаров.
И кажется, что всё по-прежнему впереди.
Огневик
Когда тебе двадцать один, и ты замужем уже четыре года, и снимаешь квартиру в военном городке, и учишься на филфаке, то засыпаешь в страхе, а просыпаешься в тревоге и недоумении. Вдруг отключат газ, или воду, или электричество; вдруг не сдашь экзамен; вдруг не найдёшь работу, потеряешь деньги или паспорт, а продавщицы из продуктового магазина тебя разлюбят и перестанут давать в долг. Вдруг умрёт твой научный руководитель, а ты узнаешь об этом из траурного объявления в чёрной рамке, висящего на первом этаже. Вдруг у мужа будет плохое настроение, и он с каменным лицом соскребёт с тарелки завтрак в унитаз, одним глотом выхлебнет кофе и уйдёт на работу, а ты останешься грызть ногти, ковыряться в остывшей яичнице, а потом пойдёшь под дождём к метро, отчаянно стараясь вспомнить что-нибудь радостное, ожидающее тебя в надвигающемся дне. А в университете киснут в буфетах крабовые салатики, и пропыленные шкафы на кафедрах набиты заполненными заботливой рукой словарными карточками, и прокуренные лестницы, и светлые прямые коридоры, утыканные по обеим сторонам дверями из-за которых несутся таинственные, похожие на заклинания слова. (Это потом понимаешь, что салатных крабов никогда не было, их никто никогда не ловил в море и не солил в дубовых бочках – их породила из пресной плоти минтая химия печали. И на языках, слова из которых написаны в дорогих чьему-то сердцу карточках, никто никогда не говорил, не бормотал, не бубнил и не объяснялся никому в любви, зато в них чинно происходили разнообразные закономерные процессы с именами, звучащими как названия симптомов тропической болезни – вторая германская передвижка согласных, метатеза плавных, падение редуцированных. А волшебные слова из-за дверей на поверку оказываются малопонятной звукописью, птичьим чириканьем, трелями, которыми разноцветные, зобастые доценты, курлыча, приманивают доверчивых и нежных второкурсниц на свои семинары.) И по коридорам бродят мрачные пророки, а чаще пророчицы – низкорослые, корявые, унылые, в очках и цитатах, с пылающими сборниками «Новое в зарубежной лингвистике» в руках, с утра до ночи борющиеся: с антинаучными измышлениями, с поклонницами безуглеводных и низкожировых диет, с противниками аористов в древнерусском языке, с учебной частью – да мало ли ещё с чем. Внимаешь их смутным речам, заботливо подливаешь пакетных сливок в казенные чашечки с остывшим кофе и думаешь: бедная ты, бедная, ведь понятно – даже если народные массы в порыве праведного гнева разверзнут и расточат деканат и прилежащий к нему профсоюз, и восьмитомник Виноградова унесут сдавать на макулатуру, и сами знаете кого из истории вынут, а понятно кого в нее вставят, замуж тебя всё равно никто не возьмет. Пошла бы лучше, сделала бы причёску «боб», тебе бы пошло, и заодно сняла бы этот красный шарфик в полосочку – я тебе потом объясню, почему. И мучаешься совестью от таких мыслей, и ещё сильнее любишь бесприютных пророчиц, и вспоминаешь, какой же радостью было всё, когда ты только поступила, каким прекрасным тебе казалось здесь всё. А теперь нужно получать диплом, и устраиваться на работу, а иначе мимикрируешь, сольёшься с пейзажем, с пыльными коридорами и пропахшими потом аудиториями, и никакому прекрасному принцу не будет под силу выделить тебя из этого въедающегося намертво химического состава. Короче, сплошной ужас.
Если по утрам не вскакиваешь, не мечешься по квартире, сшибая на бегу громоздящиеся книжные пирамиды, в поисках ключей, проездного или мобильного телефона, значит, выходной или библиотечный день. И новые страхи, выходные – наш дом вообще к покою не располагает. На лавочке, возле крыльца сидит серенькая бабушка Бардачиха – в кошёлке у неё зелёный лук в любое время года, почему-то всегда зелёный лук. Ещё из имущества у неё есть тромбофлебит, внучка, у которой не складывается личная жизнь и равнодушная к миру жёлтая собака, всегда дремлющая у бардачихиных ног, положив голову на её необъятный мягкий сапог. Когда на крыльцо кто-нибудь заходит, собака приоткрывает левый глаз и несколько раз стучит свалявшимся хвостом по ступеням. То ли приветствует, то ли напоминает – приходящий, не грусти, уходящий не радуйся.
Собака мне нравится. Когда я воскресным вечером возвращаюсь из магазина с полными сумками еды, мне Иногда хочется прилечь рядом с ней и подремать, спиной ко всем, кто входит и выходит. Собака мне нравится, а Бардачиха – нет. Хотя, казалось бы, - отличная бабка, выживает на свою пенсию, лук вот покупает – заботится о здоровье, витамины семье несёт. Да и социально, как говорится, активна – всех знает, всех помнит, со всеми общается.
Ухватит за полу пальто:
- Куда собралась, молодая?
- Да вот, Валентина Дмитревна, в магазин ходила.
- А муж где? Я его тут с какой-то женщиной видела. Полная такая, накрашенная. В руках кожаная сумочка – дорогая.
- Да это к нам его мама приезжала.
- Свекровь, значит? Не знаю. Молодая больно для свекрови-то.
И дышит в лицо валокордином и конфетами «Барбарис».
А в дождливые дни, когда радикулит, может и что-нибудь интересное рассказать.
- Папа мой был еврей из евреёв, Шмуль его фамилия. Он в войну добровольцем пошёл, его сразу в моторизированную разведку взяли. Это которые на мотоциклах. Поехал он в фашистский окоп, там где ихний главный сидел, врывается туда, мотоцикл грохочет, все фрицы попрятались, один главный сидит, бумаги перебирает. Он моего папу увидел, и кричит – Юден, Юден! И руки вверх. А папа ему отвечает – так точно, младший сержант Шмуль. И хрясь его по голове дулом автомата – у того голова вдребезги.
Бабка делает круглые глаза, смеётся с брызгами.
- Но сама я, милая, не еврейка. Папашу моего в сорок девятом забрали, как врага народа, я и заявление написала – мол, отрекаюсь, то-сё. Фамилию меняю. Тогда с этим просто было. И ничего, поступила в торговый техникум, потом уж Коля, детки…
Понятное дело. Как будто закрыла за собой дверь в темноту, и сидит теперь тут на лавочке, ловит последние бледные лучи октябрьского солнца – как раз и дождь кончился, развиднелось, гладит собаку. Где-то там, за этой тёмной дверью – распавшийся, уничтоженный, исчезнувший младший сержант Шмуль ищет свою дочурку, хочет отдать ей сухарики из солдатского пайка, тычет во все стороны боевым автоматом – кто потерял меня, кто убил меня, кто стёр меня со всех страниц, кто превратил меня в смутную тревогу?
Ёжусь зябко, бегу домой.
Однажды ночью я вышла на балкон. Во дворе было совершенно темно и пусто, тускло блестела вода в искусственном озерце. В доме напротив окна светились оранжевым и жёлтым, и хорошо приглядевшись, можно было разобрать, кто из жильцов чем занят – одна перебирает на завтрак гречу, посреди крупы лежит раскрытая книга; другой, дремлет под радио, прикрыв лицо газетой; маленькая девочка склонилась над письменным столом – русский, наверное, доделывает; молодая пара ссорится, у обоих лица красные, злые, она потрясает чем-то хлопчатобумажным – ну их… Почти в каждом окне – голубое мерцание: телевизор.
Я уже собралась уходить, как вдруг во двор с шумом въехала машина. Оттуда лёгкими шагами вышел стройный человек в белом облегающем костюме. Он вытащил из машины два странных предмета – вроде чашек на длинных цепочках, чиркнул спичкой, и чашки загорелись. Он встал в позу советского физкультурника – «ноги на ширине плеч», легко изогнулся, взмахнул своими чашками - и они ожили. Летучие огни рисовали узоры в колодезном воздухе двора, а он стоял и улыбался лёгкой светской улыбкой, одновременно чуть снисходительной и слегка извиняющейся за своё дивное искусство. Отблески огня мелькали по его бледному улыбающемуся лицу, и от этого оно казалось прелестным – добрым, умным, понимающим всё-всё. Тонкий и светлый, окружённый огненным орнаментом, в густой чернильной темноте, он был как живое воплощение тревоги.
- Сашка, кто это… - спросила я, и закашлялась. – Кто это?
- Это? – муж оторвал взгляд от монитора и внимательно посмотрел в окно. – Это огневик. У него, наверное, репетиция. Знаешь, фокусы показывает, с огнём – ты подожди, он сейчас, наверное, глотать их будет. Интересно.
Слово «огневик» было таинственным и чуть-чуть пугающим. Захотелось спуститься, поговорить с ним, подарить ему бутылку красного сладкого вина, оставшегося от последних гостей – «скажу, от поклонницы Вашего искусства», подумала я. Хорошо бы спросить его, кушает ли он что-нибудь, кроме огня, не страшно ли ему ездить по ночам в тёмные дворы и размахивать там факелами, и можно ли выучиться на огневика, или с этим талантом рождаются – как в древних поверьях, которые мы проходили на фольклоре, ребёнок, появившийся на свет в воскресенье, может понимать язык зверей, так, может быть, есть день, в который нужно родиться, и станешь огневиком? Но в машине, в которой он приехал, кто-то явно сидел, оттуда доносились смех и музыка, и сам огневик вскоре перестал крутить свои чаши, и затеял с кем-то невидимым весёлый разговор, о том, хватит ли водки, или можно вот сейчас заехать в круглосуточный магазин и взять ещё, и он знает куда. Из машины ему что-то радостно и бурно возражали, и не было никакого смысла его отвлекать.
The Phantom of the Opera
is there - inside my mind. (c)
 IP записан IP записан
|
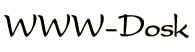
 Главная
Главная

 Справка
Справка

 Поиск
Поиск

 Вход
Вход





 Страниц:
Страниц: 